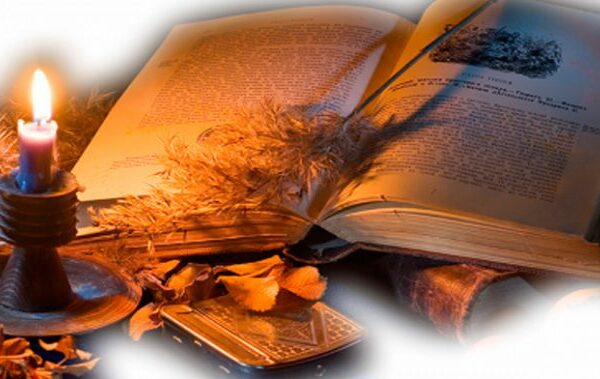|
Обширная литература о Пушкине почти всегда старалась обходить такую тему и всячески старалась выставить Пушкина либо как рационалиста, либо как революционера, несмотря на то, что наш великий писатель был живой противоположностью таким понятиям.В 1899 году, когда Казань и, в частности, Казанский университет праздновали 100-летие со дня рождения поэта, я был приглашен служить там литургию и сказать речь о значении его поэзии. Я указал на то в своей речи, что несколько самых значительных стихотворений Пушкина остались без всякого толкования и даже без упоминания о них критиками.
Более искренние профессоры и некоторые молодые писатели говорили и писали, что я открыл Америку, предложив истолкование оставшегося непонятным и замолченным стихотворения Пушкина, оставленного им без заглавия, но являющегося точной исповедью всего его жизненного пути, как, например, чистосердечная исповедь блаженного Августина.
Вот как оно читается:
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада <…>
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный. <…>
Не однажды, предлагая вниманию слушателей на литературных вечерах и на студенческих рефератах это стихотворение, я спрашивал слушателей: «О какой школе здесь говорится, кто упоминаемая здесь учительница и что за два идола описаны в конце этого стихотворения, подходящего и под понятие басни, и под понятие загадки?» Сам автор такого толкования не дал, но смысл его исповеди в связи ее со многими другими его стихотворениями совершенно понятен. Общество подростков-школьников — это русское интеллигентное юношество; учительница — это наша Святая Русь; чужой сад — Западная Европа; два идола в чужом саду — это два основных мотива западноевропейской жизни — гордость и сладострастие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на которых любовались упрямые мальчики, не желавшие не только исполнять, но даже и вникать в беседы своей мудрой и добродетельной учительницы и пристрастно перетолковывавшие ее правдивые беседы.
Истолковав со своей стороны в печати эту мудрую загадку нашего писателя и, конечно, замолченную вместе с моим истолкованием современною критикой, я тем самым все-таки понудил ее в рецензиях моей речи, а также и в других статьях о Пушкине коснуться этого стихотворения, но их авторы лицемерно замалчивали (не имея возможности отрицать) главный вывод из пушкинской загадки, а ходили вокруг да около ее смысла, не вникая в ее существо.
Итак, молодое общество, не расположенное к своей добродетельной учительнице и перетолковывавшее ее уроки, — это русская интеллигентная молодежь (и, если хотите, также старики, которые при всяком упоминании о религии, о Церкви и т.п. только отмахивались и начинали говорить о мистицизме, шовинизме, суевериях и, конечно, об инквизициях, приплетая ее сюда ни к селу ни к городу). Наши толстые журналы начиная с 60-х годов шли по тому же пути «превратных толкований» всего соприкосновенного со святой верой и манили читателя «в великолепный мрак чужого сада» и под названием «просвещения» держали его в этом мраке туманных и уж вовсе не научных теорий позитивизма (агностицизма), утилитаризма, полуматериализма и т.д. и т.п. Гордость и сладострастие, вечно обличаемые нашей учительницей, то есть Церковью в данном случае, наполняли постоянно буйные головки и «слабые умы» нашего юношества, и лишь немногие из них в свое время вразумлялись и изменяли свое настроение, как, например, герои тургеневского «Дыма», гончаровского «Обрыва» и большинства повестей Достоевского.
Не подумайте, будто приведенное стихотворение Пушкина является единственным в своем роде. Напротив, можно сказать, что эти настроения беспощадного самобичевания и раскаяния представляются нам преобладающими в его творчестве, потому что оно красной нитью проходит через все его воспоминания и элегии.
Историко-критическая литература Пушкина не поняла. Белинский преимущественно ценит его как поэта национального, но в чем национализм его убеждений (а не просто подбора тем), Белинский также не объясняет. Не объяснил этого и Некрасов, так искренне преклонявшийся перед силой пушкинского слова и воображения. Ничтожный Писарев ценит его только как стилиста, а тот единственный критик, точнее панегирист, который понял его глубже прочих, профессор Духовной академии высокоталантливый В.Никольский, открывший пушкинскую Америку в своей актовой речи в Петербургской духовной академии под заглавием «Идеалы Пушкина» (1882) и приведший в бурный восторг огромную аудиторию во главе с полным почти составом Священного Синода, остался злостно замолченным в литературе. Я даже не знаю, вышла ли эта речь Никольского отдельным изданием.
Однако благодаря Богу явился человек, которого замолчать было уже физически невозможно, именно Ф.М.Достоевский, выступивший на торжественном чествовании нашего поэта в пушкинские дни 1880 года в Москве, когда был поставлен ему памятник в первопрестольной столице.
Неоднократно мы упоминали о том колоссальном восторге, который охватил тогда слушателей этой речи Достоевского и отразился на всей современной литературе. Малораспространенный до того времени «Дневник писателя», в котором Достоевский отпечатал свою речь, был раскуплен в несколько дней; затем понадобилось второе и третье его издание.
Достоевский представлял себе Пушкина тоже как писателя, патриота и как человека высокорелигиозного, но в своей речи и в не менее талантливом приложении к ней он рассматривал Пушкина с одной, определенной точки зрения — как гениального совместителя национального патриотизма с христианским космополитизмом. Справедливо утверждал он, что Пушкин показал себя гениальнейшим писателем мира, обнаружив такое свойство ума и сердца, до которого не дошли мировые гении Шиллер и Шекспир, ведь у последних герои повестей и поэм почти вовсе теряют присущие им национальные черты, и шекспировские итальянцы и испанцы являются читателю как англичане, а герои Пушкина являются типичными выразителями характеров их родных, национальных; примеры приводить на это излишне.
Речь Достоевского о Пушкине настолько глубоко проникла в умы и сердца нашей публики, что рабствовавшая ей критическая литература, которая прежде унижала Достоевского и презрительно издевалась над ним начиная с 1881 года, после нескольких бессильных «гавканий» на него совершенно изменила свой высокомерный тон и стала отзываться о Достоевском с таким же почтением, как и о Пушкине; кратко говоря, с этого времени оказалось не принятым говорить о Достоевском, как раньше и о Пушкине, без уважения, даже без благоговения.
Читатель, конечно, заметил уже, что центральный интерес наш к личности и поэзии Пушкина сосредоточивается в другой области, нежели в речи Достоевского, хотя и соприкасается с последним. Именно: мы ведем свою речь о Пушкине прежде всего как о христианском моралисте. Приведенное стихотворение «Жизненная школа» свидетельствует о том, что даже независимо от своих политических и национальных симпатий Пушкин интересовался прежде всего жизненною правдою, стремился к нравственному совершенству и в продолжение всей своей жизни горько оплакивал свои падения, которые, конечно, не шли дальше обычных романтических увлечений Евгения Онегина и в совести других людей последнего столетия не оставляли глубоких следов раскаяния, а нередко даже отмечались в них хвастливыми воспоминаниями своего бывшего молодечества. Не так, однако, настроен Пушкин:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе…
Продолжение следует…
Источник: http://www.pravoslavie.ru/2621.html